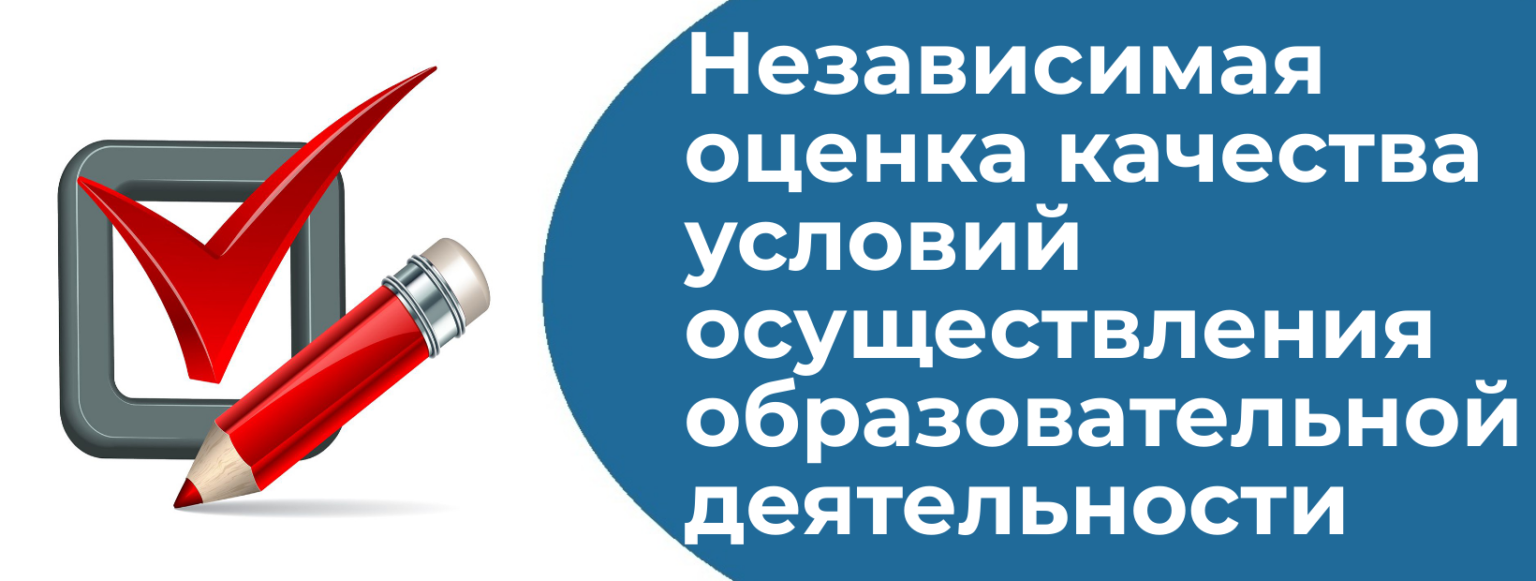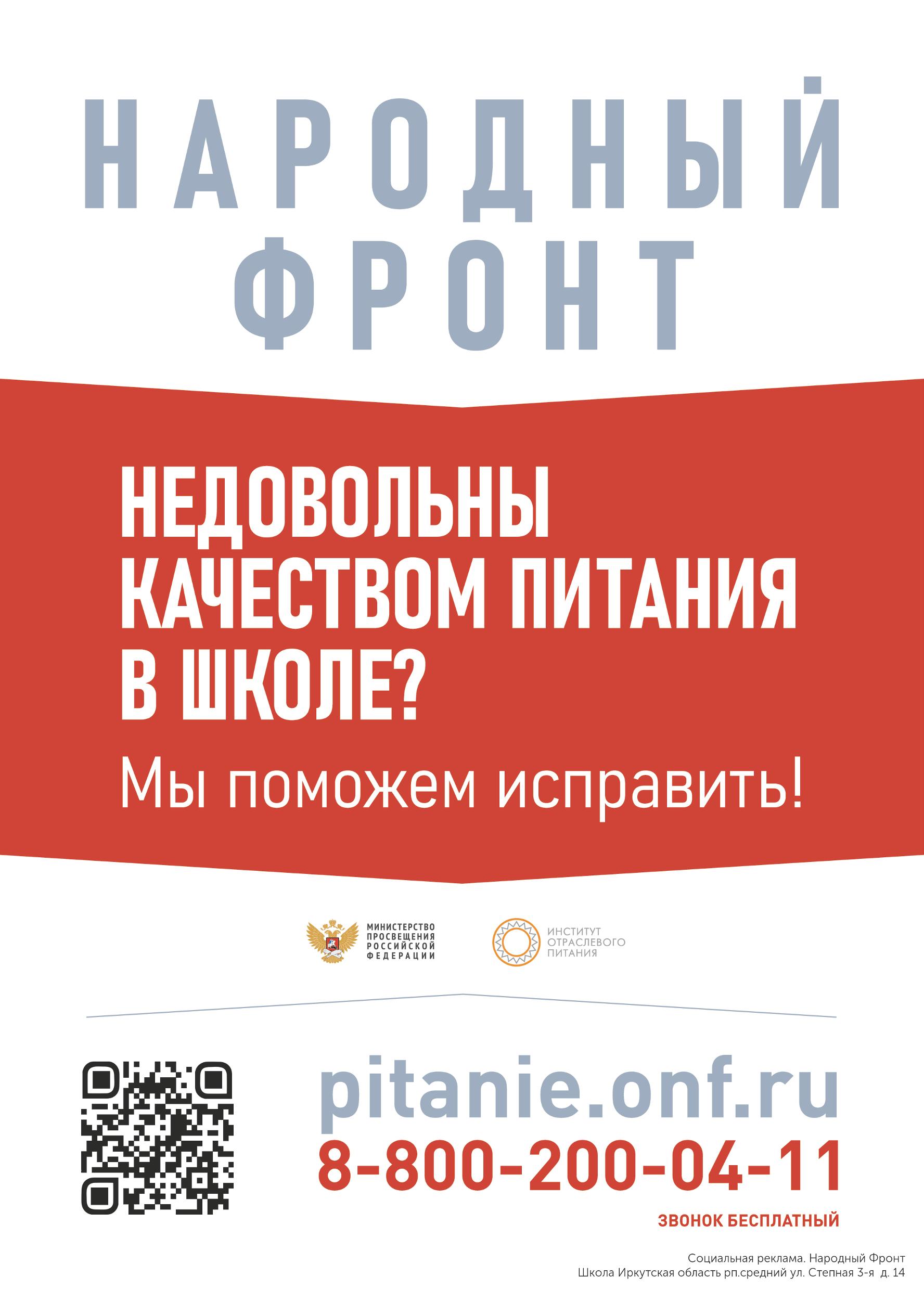Соболь
.jpg)
.jpg)
Наземный зверёк, на деревья влезает редко. Характерный обитатель сибирской тайги. Ловкий и очень сильный для своих размеров хищник.. Передвигается прыжками. Следы — парные крупные отпечатки размером от 5x7 до 6x10 см. Длина прыжка — 30—70 см. Хорошо лазает по деревьям, но «верхом» не ходит.
.jpg)
Имеет отлично развитые слух и обоняние, зрение слабее. Голос — урчание, вроде кошачьего. Легко ходит по рыхлому снегу.
.jpg)
Наибольшую активность проявляет утром и вечером. Как правило, обитает в кедрачах, в верховьях горных рек, близко к земле — в зарослях стланика, среди каменных россыпей, изредка поднимается в кроны деревьев. Охотник-одиночка. Не терпит горностаев на своей территории. Убежищами служат пустоты между корнями деревьев, в каменистых осыпях, дуплах валежин. В горах совершает сезонные вертикальные миграции.. Всеяден; основная пища: мелкие грызуны, семена кедра и кедрового стланика, плоды рябины, ягоды голубики, брусники. Линьки 2 — весной и осенью.
Хищнический промысел привёл к падению численности соболя,
Хищнический промысел привёл к падению численности соболя,
История баргузинского соболя и первый заповедник на Байкале
.jpg) Первый заповедник на Байкале учрежден в 1916 году, хотя в некоторых публикациях временем его возникновения называют 1921 или даже 1926 год.
Первый заповедник на Байкале учрежден в 1916 году, хотя в некоторых публикациях временем его возникновения называют 1921 или даже 1926 год. Заповедник охватывает центральную часть горного хребта Хамар-Дабан и его северного макросклона, расположенного вдоль южного побережья озера Байкал, на территории Джидинского, Селенгинского и Кабанского районов Республики Бурятия.
С 1975 года заказник «Кабанский» отнесён к водно-болотным угодьям международного значения (дельта Селенги, Рамсарская конвенция).
.jpg) В 1986 году заповедник был включен в международную сеть биосферных резерватов. С 1996 года территория заповедника и заказника входит в состав участка Всемирного природного наследия «Озеро Байкал».
В 1986 году заповедник был включен в международную сеть биосферных резерватов. С 1996 года территория заповедника и заказника входит в состав участка Всемирного природного наследия «Озеро Байкал».Своим появлением Баргузинский заповедник обязан катастрофическому сокращению численности соболя и деградации соболиного промысла. История заповедника так тесно связана с судьбой соболя, что просто необходимо рассказать об этом пушном зверьке.
Среди отечественных охотничье-промысловых животных нет вида с более яркой, насыщенной событиями биографией, чем соболь. Ему невольно пришлось стать живой иллюстрацией вещих слов Чарльза Дарвина: «Вглядываясь в природу, мы никогда не должны забывать, что каждое единичное органическое существо, можно сказать, напрягает все свои силы, чтобы увеличить свою численность; что каждое из них живет, только выдерживая борьбу в каком-нибудь возрасте своей жизни; что жестокое истребление обрушивается неизменно на старого или молодого в каждом поколении или с повторяющимися промежутками. Уменьшите препятствия, сократите истребление, хотя бы в самых малых размерах, и численность вида почти моментально возрастет до любых размеров».
Тревожные сигналы о падении соболиного промысла поступали от ярмарочных и биржевых комитетов, ученых и местной администрации, а также торговцев мехами в начале прошедшего столетия. К этому времени количество соболиных шкурок на рынках сократилось в 5–6 раз. Если в 1889 году на Ирбитской ярмарке была продана 61 тысяча соболиных шкурок, то в 1910 году — только 10275. Почувствовав приближение краха пушного рынка, забили тревогу и в центре оптовой меховой торговли — на лейпцигских фирмах. Переполнившей чашу каплей явился доклад иркутского генерал-губернатора за 1910–1911 годы, в котором сообщалось о крайне бедственном положении соболиного промысла в Сибири.
16 апреля 1912 года правительство приняло постановление, в котором было признано необходимым скорейшее распространение на Сибирь закона об охране соболя и указано на неотложность выделения заповедных участков. Законом от 9 июня был установлен полный и повсеместный запрет на добычу соболя с 1 февраля 1913 года до 15 октября 1916 года. Предполагалось, что за это время зверек успеет размножиться, после чего на него вновь будет открыта охота. Следовало, однако, ожидать, что вынужденные воздерживаться от добывания зверьков во время запрета промысловики начнут с удвоенной энергией преследовать их после открытия охоты и быстро уничтожат весь накопившийся за три года приплод. Нужны были срочные и решительные меры, чтобы спасти баргузинского соболя.
«Таким единственным условием,— писал охотовед А. А. Силантьев,— является устройство заповедников … которые служили бы местом для спокойного существования и размножения соболей и расселения их в прилегающие районы. «
Для учреждения такого заповедника была организована Баргузинская соболиная экспедиция, благодаря работам который был открыт Баргузинский государственный заповедник.
Трехлетний запрет добычи соболя и торговли его шкурками, свертывание промысла в годы гражданской войны способствовали увеличению численности зверька, но вскоре она снова начала падать. В середине тридцатых годов по всей стране заготавливали не более 7 тысяч шкурок. Единственным местом, где численность соболя не только не снизилась, но и начала расти, была территория Баргузинского заповедника.
Непросто и не сами по себе осуществлялись меры по восстановлению утраченных природных богатств. Восстановление численности соболя потребовало самоотверженного труда ученых, охотоведов-практиков, охотников. Планы восстановления соболя вызывали недоверие, споры, сопротивление. Их выполнение требовало глубоких знаний, энтузиазма, быстрых и решительных действий.
Некоторые биологи считали соболя естественным вымирающим видом и все попытки восстановить его ареал и численность заранее обрекали на неудачу. В 1933 году в журнале «Охотник и рыбак Сибири» была опубликована статья В. Залесского «нужна ли реакклиматизация соболя?», в которой автор пытался доказать бесперспективность этого мероприятия. Появились и курьезные проекты спасения соболей. Так, О. Б. Патушинский, буквально поняв образное выражение «соболь дыма боится», разработал сложнейшую систему его разведения в неволе на основе использования хитроумной системы подземных дымоотводов.
К чести нашей охотоведческой науки, она сломала сопротивление скептиков и нашла правильный путь восстановления соболя. Оно продолжалось 25–30 лет и в целом было завершено к началу 60-х гг. прошлого века. Успеху способствовала исключительно высокая экологическая пластичность этого животного и его очень большая жизнестойкость. Во многих районах соболь живет в непосредственной близости от человека, а в голодные годы были случаи, когда он забегал на окраины населенных пунктов и питался кухонными отбросами.
Достаточно было сократить истребление, оказать небольшую поддержку и численность вида быстро возросла до прежних размеров. Это, разумеется, оказалось возможным потому, что места обитания соболя на большей части ареала не претерпели существенных изменений.
Истребление соболя на громадных просторах Урала, Сибири и Дальнего Востока подчеркнуло уже давно не новую мысль — самые, казалось бы, несметные богатства природы могут иссякнуть удивительно быстро, даже наиболее многочисленные виды животных могут оказаться на грани исчезновения.
Восстановление ареала и численности этого драгоценного пушного зверька — выдающееся достижение отечественного охотоведения, и в истоках его стояла организация Баргузинского заповедника.
Из книги: Гусев О. К Священный Байкал.— М.: Агропромиздат, 1989.